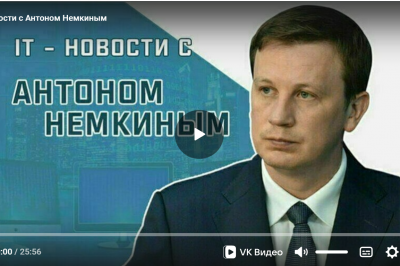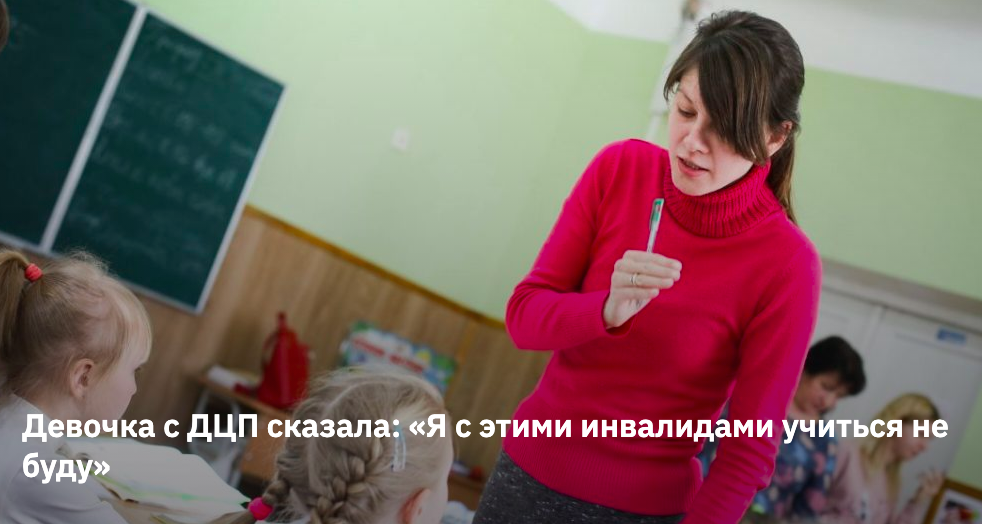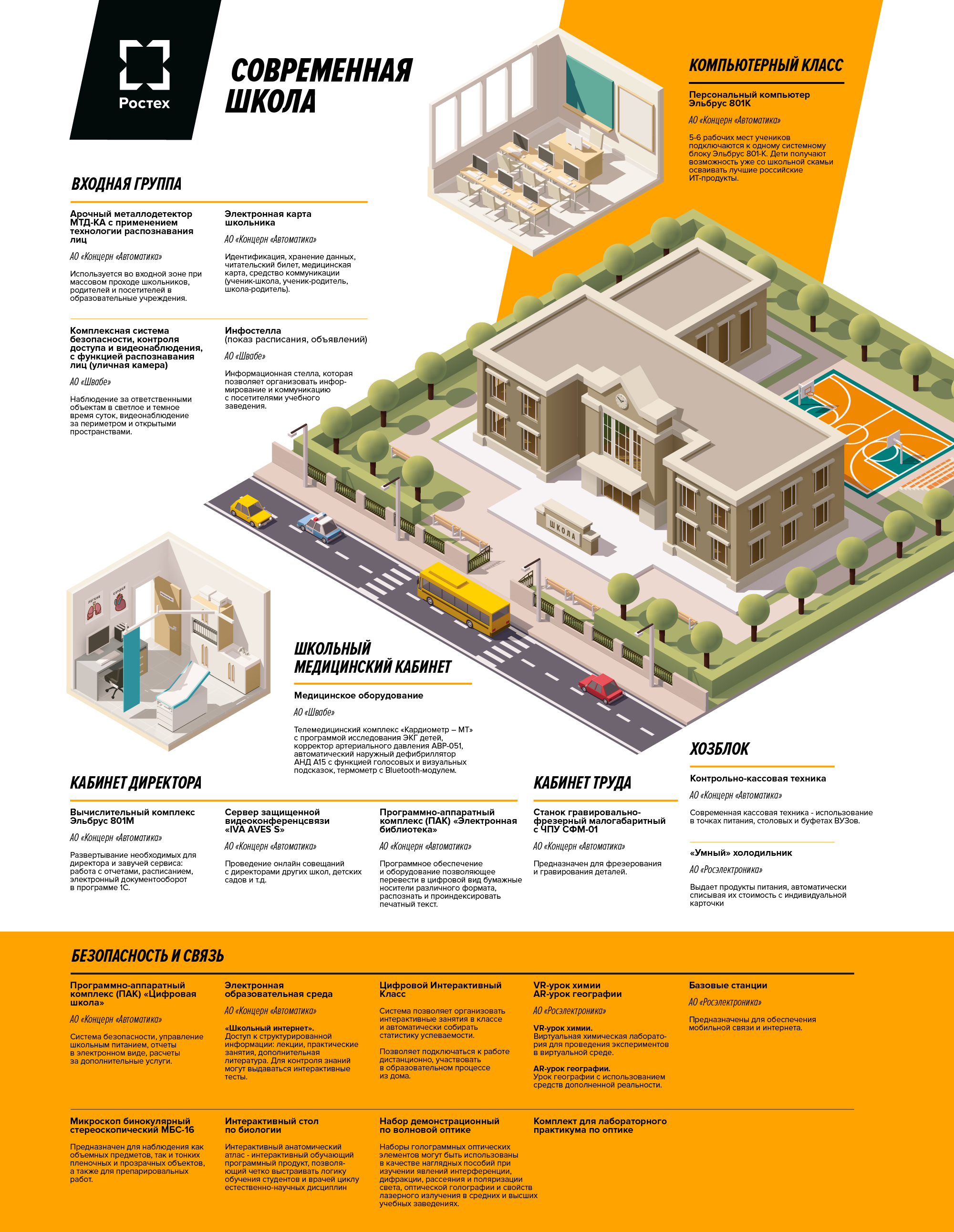Об аутизме в России стали говорить недавно, в массовом сознании это относительно новое заболевание, в сознании российских психиатров — тоже. Постепенно у нас начинает складываться инфраструктура помощи детям с расстройствами аутистического спектра (РАС), помощь от государства таким детям очень слаба, и львиная доля проблем ложится на самих родителей. Корреспондент DV поговорил c владивостокскими мамами детей с аутизмом о жизни с особенным ребёнком, о борьбе с неизлечимой болезнью, о том, как родители заменяют собой государство, и как, объединившись, могут создать собственный центр помощи
Елена Пинчук, 35 лет
Чтобы научить сына произносить своё имяменя ушло очень много времени и сил. Я говорила ему «Алёша» разными интонациями и в разной манере, сработало, когда я нащупала вариант «АААаалёша». Ему тогда было семь, и воспринимал он меня и слышал далеко не всегда. Только когда я вытаскивала его из ванны, закутывала в полотенце и ставила перед собой на табуретку, ему можно было что-то говорить. И тогда я пробовала разные варианты, подбирала ключики, говорила «Алёша» и «Алёёёша», говорила шёпотом, громко, но только когда я подобрала вариант «АААаалёша» он смог понять, что да, он Алёша и воспроизвёл это.
Представляете, сколько нужно было разных вариантов подобрать, чтобы найти нужный? И так во всём, поэтому никому совета не дашь, нужно всегда работать над собой, искать и быть готовым к переменам. Я, например, всегда была очень эмоционально-зажатой, порой не могла выразить себя, а с Лёшей нужно было учиться проявлять свои чувства. Он меня растормошил, грубо говоря. Сложность ведь в чём? Недостаточно просто сказать, нужно сделать это очень эмоционально. Просто сказать «нельзя» не получится, нужно сделать так, чтобы он это услышал и прочувствовал, а если у него что-то получилось, недостаточно просто сказать «молодец», нужно кричать, хлопать в ладоши, прыгать, чтобы ему понравилось и он понял, что да, это действительно здорово.
Я часто говорю, что если бы пять лет назад во Владивостоке было то, что есть сейчас, я бы навряд ли начала свой проект. Но пять лет назад, даже если и можно было найти специалистов, которые бы занимались с ребёнком, то найти группу было невозможно, а одни лишь индивидуальные занятия для таких детей тоже не очень хороши — им нужна социализация. У нас сейчас двадцать человек и все дети со сложными нарушениями, но они отлично развиваются вместе и я как мать понимаю, что одна не смогла бы дать сыну столько, сколько даст группа, банда, компашка.
Мы начинали с простых ежемесячных встреч, каких-то выходов, пикников, общих праздников. Три года назад мы нашли помещение, где могли собираться уже каждый день, и с тех пор началась история «Маленького принца». Мы учились, думали, искали. За это время мы по-разному позиционировали себя, были в таком творческом поиске, но сейчас мы определили себя как питерскую школу танцевальной терапии и цирковой педагогики, такие последователи Упасла-Цирка.
У нас очень разношёрстный коллектив, в одной группе могут быть дети совершенно разного уровня и возраста. Вообще, мы в один временной период берём не больше двадцати детей, такой потолок приходится ставить, потому что в ином случае мы просто не сможем уделить внимание каждому. Если людей будет очень много, то это превратится в простую тусовку, а хочется реального действия.
Проект у нас добровольческий и практически все работают бесплатно: театральный и двигательный педагоги, специальный психолог. Общие занятия, из которых состоит программа, они все ведут бесплатно. Есть два приглашённых специалиста, которым мы платим свои личные деньги, сами скидываемся на аренду помещения, покупку необходимого инвентаря. Почти все, кто ведёт занятия в центре, — сами родители таких детей. Этим и объясняется их мотивация, они учатся и становятся специалистами, чтобы помочь детям. Наша цель — вести их как можно дольше. Мы создали «Маленького принца» не как центр развития, где дети занимаются курсами, мы ведём их годами и сейчас становится очень заметно, как важно детям быть вместе.
У детей с аутизмом очень высокая тревожность, отсюда у них тяга к педантичности, поэтому дети выставляют всё в одном порядке. Обувь у них должна стоять только так, всё всегда должно быть убрано, закрыто, стоять на своём месте. Это такая защита. Пока всё стоит как нужно — всё нормально, а если что-то меняется, то это становится настоящей угрозой его миру в том варианте, в котором он его видит.
У моего сына в дошкольном возрасте это было очень ярко выражено, такая классика аутизма. Мы могли ходить только по одной стороне дороги, ни в какие чужие двери зайти нельзя было, если магазин, то только этот и купить там можно было только определённый набор продуктов, из одежды только эта старая кофточка, надеть что-то новое — очень сложный процесс. Но постепенно мы с ним это расшатали. Отчасти это было вынужденно, потому что мне приходилось работать и таскать его с собой, я принципиально перетаскивала его на другую сторону дороги.
На практике мы постоянно сталкиваемся с непереносимостью чего-то — прикосновений, звуков, но мы учим переносить их эту среду, делаем их нервную среду более гибкой. Книги говорят, что структура занятия должна быть всегда одинаковой: всегда какое-то определённое начало, какие-то визуальные подсказки, обязательно должен быть соблюдён порядок. И на первоначальном этапе мы так и делаем, но потом начинаем импровизировать.
Сначала мы создаём ребёнку условия безопасности, он начинает чувствовать себя как дома, и тогда ему уже всё равно что и где стоит. У нас в группе есть четыре-пять постоянных участников, с которыми мы так хорошо наработали это ощущение безопасности, что теперь можем выходить хоть в кафе, хоть в магазин, хоть в цирк. Мы просто берём этих детей и устраиваем совместный выход. И вот ребёнок, который никогда прежде не заходил в кафе, не сидел, не ждал очереди, он не паникует, он заходит вместе со всей этой компанией, а со временем может и один туда заходить. Это как костыли.
Естественно, мы даём каждому ребёнку то, что нужно ему в первую очередь, и вся программа выстраивается не так, что мы сели и подумали, что надо бы с детьми работать так и так — мы исходим из потребностей каждого ребёнка. Семён, например, любит махать палками, у него такое стереотипное движение. Стереотип — это проблема, а нам нужно, чтобы это движение перестало быть проблемой, наполнилось смыслом. Тогда мы даём ему в руки не палочки, а гимнастические ленты, и постепенно это становится номером, с которым мы можем выступить, а там, глядишь, и заработать в будущем. Таких историй много. Моя задача подготовить сына и остальных наших детей к самостоятельной жизни, и я вижу, что они смогут. Я думаю, что когда мы преодолеем этот сложный пубертатный период, то мы уже сможем выйти на профориентацию и при содействии администрации края договоримся с одним из профучилищ, чтобы дети получили профессии.
Многие считают, что мы называем себя неформальным проектом, потому что у нас нет юридической регистрации. А на самом деле неформальный он потому, что организаторы — выходцы из неформалов, мы все много времени провели в такой среде, где почти нет условностей, стереотипов. Рок-н-ролл ведь раньше тоже был таким прибежищем белых ворон, необычных людей. Возможно, поэтому нам было проще принять, что наши дети такие. Ну необычный ребёнок и ладно, кто из нас обычный в конце концов? Все проблемы и страдания связаны с тем, что взрослые — мамы, папы, их окружение — не могут что-то изменить в себе. Им сложно расстаться со своим представлением о том, как всё должно быть. Моему сыну четырнадцать, и к этому возрасту я уже поняла, что он не хуже чем другие люди. А во многом мне с ним ещё легче и интереснее. И проблемы, конечно, есть, но они просто другие.
Я очень люблю манифест Джима Синклера «Не плачьте о нас». Там он от лица своего сына написал текст, в котором говорит, что когда родители плачут о своих детях, когда мечтают, что они станут здоровыми, обычными, на самом деле они хотят чтобы они, такие каки они есть, умерли и на их месте появились бы другие люди с их лицами. Так и есть: все эти переживания не связаны с реальными сложностями, потому что единственная объективная проблема — что будет с твои ребёнком после смерти. Это единственная забота и печаль, а всё остальное просто требует изменить угол зрения.
Я заметила, что каждому поколению всё проще и проще — становится больше помощи, больше информации, больше специалистов. Мы — первая волна родителей четырнадцати- и пятнадцатилетних детей, кто выдержал возрастные испытания. У меня просто характер такой: я могу до последнего бодаться, не сдаюсь, но ещё у меня классный психолог, который объяснил как себя вести. И когда пошли проблемы, начался пубертатный период, агрессия, приходилось порой прятаться в туалете. Но мне объяснили, как поступать, и мы выправили ситуацию буквально за две недели. А другому поколению просто никто не мог этого объяснить, тогда психиатрия говорила только, что всё плохо и будет ещё хуже, спасут только препараты и вообще лучше отдать ребёнка.
Екатерина Владимирова, 40 лет
В три года мой ребёнок забыл всё, что когда-то умел: на горшок ходить, кушать. Всё. Не знаю, как объяснить. Будто дома вместо ребёнка появилась неведома зверушка, обезьянка, прыгающий мячик. Сначала я даже думала, что сошла с ума, потом пошла к врачу, а она мне: «Вам в психушку надо, вам на инвалидность надо». Ну и на слове инвалидность я заплакала, конечно, а потом впала в депрессию. Я всё ходила и говорила: «Но он же смотрит в глаза, он же отзывается на имя». Мне тогда казалось, что я одна во всём мире с такой проблемой, с таким ребёнком. Две недели проплакала, но потом «собрала себя в кучу», начала смотреть интернет, думать, что делать дальше.
В четыре года ребёнку поставили инвалидность и гордо прозвали аутистом. Врачи нас через семь кругов ада прогнали, конечно. Нужно было месяц обследоваться в психиатрической больнице, потом комиссии проходить. Психиатр участковый как-то спросил: «А вы что с ним будете делать?». Я глаза таращу, спрашиваю: «В смысле? Что я могу с ним делать? Я его родила, я его кормлю, пою, воспитываю». Она мне: «Сколько вам? 34? Вы же можете и второго родить, вы можете его в интернат сдать, ему там будет хорошо, а вы жизнь себе не ломайте, новых нарожаете».
В психушке нам прописали психотропные таблетки. Я поначалу ещё пыталась их давать ребёнку, но вместо того, чтобы успокоиться, он попросту засыпал мертвецким сном. Я тогда решила, что нет, давать их не буду. После этого я немножко уповала на физиотерапию: мы ходили на тренажёры, на лечебную физкультуру в реабилитационный центр для детей с ДЦП. Нам, аутистам, деваться некуда, тыкались, куда только могли. Там я уже познакомилась с другой мамой, у которой ребёнок тоже с таким диагнозом. Постепенно начала находить мам с такими детьми по всему городу, и уже не так страшно стало. Мы ведь все искали в интернете, ничего не было известно, никто ничего не рассказывал — помоги себе сам, что называется.
Когда мы собрались в садик, нас направили в коррекционную группу. Там нас записали на десять занятий к дефектологу. Эти десять занятий, которых мы ждали в очереди полгода, — единственное, что я получила от государства. Десять занятий, раз в неделю, по одному часу. Работа с такими детьми у нас в городе, по сути, никак не поставлена, у нас и специалистов нет толком. Сейчас какой-то ресурсный центр собираются открыть, но я даже не знаю, что там будет, а главное — когда. Время против нас работает. Мы можем сидеть и ждать, когда этот ресурсный центр заработает, когда обучат этих специалистов. А годы идут, и когда твоему ребёнку будет уже лет двадцать — это совсем другая история, нежели когда ребёнку три года.
В «Маленьком принце» мы оказались с самого начала, можно сказать, участвовали в его создании. С Леной Пинчук познакомились лет пять назад, на мероприятиях, которые организовывали волонтёры движения «Мы вместе».
Волонтёры устраивали встречи с такими детьми, рисовали с ними, бегали, общались, играли, а мы с мамами могли обсудить наши проблемы. Потом появилась Людмила Николаевна, дефектолог — она решила организовать школу для мам, рассказывала нам, что и как делать. Постепенно мы стали искать места для наших встреч, у всех был свой багаж вопросов и проблем, которые нам нужно было обсудить. И в конце концов прозвучала идея объединиться. В «Маленьком принце» мы не просто родители особенных детей, мы — тьюторы. Мы не то, чтобы пришли, присели на диванчик, а кто-то с нашими детьми занимается, мы всегда сами участвуем во всём. Девочки постоянно учатся, Лена ездила в Москву и Питер на учёбу, мы организовывали приезд специалистов — на месте не стоим, что-то придумываем всё время. Все новые игры начинаем мы, а потом, когда дети усваивают правила, мы их подталкиваем к участию. Лена у нас мозг, но право голоса имеют все, поэтому занятия очень гибкие — мы стараемся подстроиться под каждого ребёнка. Например, мы знаем, что на занятие придёт Костик, ему пять лет и он очень быстро перегружается, устаёт. Значит, нужно так выстроить программу, чтобы он мог отойти, отдохнуть, а потом снова вернуться в работу. Мы тесно работаем с дефектологом. Людмила Николаевна нам очень много помогает — она, можно сказать, крёстная мама нашего «принца» и нас всех.Если посмотреть на то, каким был мой ребёнок пару месяцев назад, то кажется, будто ничего и не изменилось, но если обернуться назад, года на два, то видно, как Сёма изменился. Например, раньше у него раньше была звуковая сверхчувствительность, и когда одна мамочка как-то предложила устроить в «Маленьком принце» танцы, мы не могли с ним пойти. Сейчас же мы занимаемся танцевально-двигательной терапией, а в клубе у нас играет самая разная музыка, и Сёма её отлично переносит. Перерос? Может быть. Привык? Возможно. А может быть, мы нашли то, что позволило ему с этим справиться. В случае с Сёмой было очень важно дать ему пульт управления — ему очень важно иметь возможность управлять музыкой, делать её громче или тише, включать или выключать. Невозможность сделать это приводило его к страху, вплоть до состояния аффекта.
Сёма раньше всегда был очень осторожным. Он никуда не ходил случайно, он был как кот: ему нужно было удостовериться, что всё безопасно, и только потом он мог сделать шаг в сторону. А сейчас он начал пробовать опасность на вкус, с восторгом наблюдает за «старшаками», за этим хулиганьём. Он сейчас идентифицирует себя: что он мальчик и таким быть круто. Специально вычислил, во сколько они выходят погулять, и смотрит за ними, а потом повторяет.
Ребёнок перерастает, становится другим — он уже такой сорванец, с характером. Посмотришь — ну обычный мальчишка, только что не говорит. Произносит только первые слоги. Допустим, подходит ко мне, показывает на какой-нибудь бутерброд и говорит: «ку». В смысле «кушать» или «скушаю». И говорит он, только когда ему надо, я не могу вести с ним диалог. Но когда-то говорили, что, если он хотя бы кивать в ответ начнёт — уже хорошо, уже коммуникация, уже упрощает жизнь.
В школу Сёма пошёл только в этом году, нас зачислили на индивидуальное обучение в обычную общеобразовательную школу. Я пошла к учительнице знакомиться. И как только ты услышала диагноз, то сделала круглые глаза и сказала: «Я не знаю, что с ним делать». Я ей сказала: «Я буду вам помогать».
Учительница молодец, она очень хорошо представила ребёнка в классе, и дети полюбили Сёму. Он даже моду задал: как-то подошёл и обнял мальчика, а потом подошёл и обнял другого. Без всякой причины, просто он такой ласковый. И сейчас, когда мы приходим в школу, дети встают в очередь, а он всех обнимает.
Сёма на самом деле всегда был очень контактным, и если взаимодействия не возникало, то только потому, что остальные его сторонятся. Например, играем где-нибудь на площадке, там его спрашивают: «Как тебя зовут? А ты чего не разговариваешь?». А он молчит. А когда нервничает, то и кривляться начинает, плечами пожимает или подмигивает, он так напряжение снимает. Но они же не знают, не понимают, и вот к нему подходят другие дети, спрашивают: «Мальчик, ты что, дурачок?»
Я не работаю, времени не хватает даже просто на поспать — не могу его оставить. Нет, я могу минут на пятнадцать уйти с собакой погулять, Сёма адекватный и не шкодливый, но надолго я его оставлять не могу. Сейчас уже справляемся, конечно. Тяжело в первые годы, когда все думают, что твой ребёнок просто невоспитан. Начинают хмыкать, поучать. А сейчас ничего, где-то можно отшутиться или ещё что-то. Нам ещё первое время тяжело было, потому что тогда об этом не писали и не говорили. Я тогда слово «аутизм» услышала от врачей впервые, и когда сказали идти на инвалидность, то было страшно, конечно. Сейчас тяжело, но ведь тяжело всем, даже родителям обычных детей.Юлия Мишенко, 35 лет
Вадиму 10 лет.
Сейчас я понимаю, что он всегда был немножко странным, но я тогда вообще не знала, что это такое. Да, было видно, что когда зовёшь его, он не откликается, кричишь ему его имя, а он как будто и не слышит. Но он ведь бегал, ходил, делал что-то. А в полтора года он как в аут ушёл, говорить совсем перестал и даже рисовать. В три года, когда надо было карту оформлять в садик, мы прошли психолога, и он посоветовал обратиться к психиатру. Мы обратились, попали на комиссию, и в три с половиной года нам дали инвалидность.
Потом нас определили в садик, обычный, общеобразовательный. Там мне стали говорить, что с ним не справляются, что он не включается в занятия и слишком активен, что им должен заниматься отдельный человек. А когда я приходила забирать его, то каждый раз мне говорили, какой он плохой, такой-сякой. А последней стала ситуация, когда он бежал и чуть кастрюлю горячую не опрокинул.Пришлось забрать документы спустя два месяца. Нам тогда дали путёвку в коррекционный сад, но там был не полный день, а всего два часа, В итоге мы нашли дефектолога недалеко от дома. Платного, конечно, но даже она отказалась, потому что не смогла сработаться с ним. Попросила нас больше не ходить. Он ведь ещё раздражительный, и, когда у него появляется агрессия, может укусить, ущипнуть.
После этого мы какое-то время находились в подвешенном состоянии, никуда не ходили. И мы нашли Людмилу Николаевну, которая и в «Маленьком принце» работает. После занятий с ней у него начался прогресс. Она смогла найти подход к нему, поняла, как завлечь в работу. У него улучшилась речь, с ним уже можно было нормально заниматься. А главное, она не только с ребёнком работает, но и с мамой, она вытягивает её из этого состояния. Потому что как только ты узнаешь диагноз, ты словно остаёшься один, ты не знаешь, что делать. Тебе никто ничего не объясняет. Ты пытаешься понять, много читаешь, но одно наслаивается на другое, и становится непонятно что делать.
Не знаю, как сейчас, но пять лет назад у нас не было какого-то места, куда можно было прийти и получить всю практическую информацию, где было бы сказано, что с этим стоит идти туда или туда. В Москве, в Питере такое было, а у нас — нет. И всё это усугублялось состоянием глубокой прострации от того, что всё не так, как должно быть. Я примерно год не могла взять себя в руки, от меня даже муж ушел, а я только год спустя смогла понять это.
В «Маленький принц» мы попали с самого начала, можно сказать, что стоим у самых истоков. Я там всю неделю провожу, и если бы не наш клуб, то и не знала, что бы мы делали. Я вижу, как он помогает ему. Да, мой ребёнок, конечно, сложный, но если посмотреть, какой он сейчас, и вспомнить, каким он был лет пять назад, то ощущение, будто это два совершенно разных ребёнка. Пять лет назад с ним невозможно было вступить в контакт, он просто не слышал, игнорировал, мог лечь на улице и начать орать, а по дороге мы ходили только за ручку, потому что иначе он сразу убегал от меня. Такой ребёнок-зверёныш. А сейчас у него уже есть целеполагание, он хочет себе игровую приставку и знает, сколько на неё нужно копить, по улице может ходить сам, не убегает, с ним можно разговаривать. Диалог пока только в зачаточном состоянии, но я могу, например, спросить его о том, что мы делаем завтра и он скажет, что мы идём в кино или едем в «Маленький принц».
Контакта с другими детьми почти нет, на игровой площадке он их абсолютно игнорирует. Может отреагировать, только если какой-нибудь ребёнок вдруг заверещит. Он гиперчувствителен, что касается слуха, может подойти и начать щипать или кусать, чтобы ребёнок замолчал. А с детьми в клубе у него есть взаимодействие, он вступает в общие игры и даже подружился с девочкой Катей. Здесь он и чувствует себя иначе — там он в безопасности, там его второй дом. Сопротивления учёбе с его стороны по-прежнему есть, но они уже меньше. Пока в школе он, конечно, сильно отстаёт от программы. Мы третий класс закончили, но пока научились только считать на плюс пять, читать и писать. Но пишет он, только если сам захочет — заставить его, уговорить очень сложно. Занимаемся в обычной общеобразовательной школе, потому что когда я пошла подавать документы в коррекционную, мне сказали, что мест нет. Но тогда уже появился новый закон об образовании, и мне подсказали, что можно пойти в обычную общеобразовательную школу. Там меня приняли очень весело: сказали, что таких детей у них нет, и они не знают, что с ним сделать, но отказать мне не могли. Хотя в конце каждого учебного года они предлагают забрать документы. И это при том, что мы находимся на индивидуальном обучении, приходим в школу три раза в неделю во время свободного урока.
Елена Окатова, 43 года
Я старалась растить Елисея как обычного ребёнка, не делала скидок. Если у него что-то не получалось, я просто пыталась найти к нему подход. Например, он не убирал свои игрушки. Можно было подумать, что это просто каприз, но на самом деле он просто не знал, как это сделать. И когда я поняла это, то взяла его за руку, и вместе мы положили игрушки в коробку. И потом проблем не было, он уже сам стал их убирать. Или, когда ребёнку было шесть лет, я сказала ему: «Обернись». Он спросил: «Это как?». Я спокойно подошла к нему, взяла за плечи и развернула: «Обернись — это так». Я врач, и, конечно же, догадывалась, что с моим сыном, но ведь верить всё равно не хочется до конца. Долгое время меня подтормаживало, что ребёнок уже в три года научился читать, в четыре он писал и очень хорошо рисовал. Мне казалось, что мои подозрения напрасны. К тому же у него были проблемы со зрением, и какие-то особенности я списывали именно на это. Но что у него есть проблемы, я понимала. А когда врачи назвали мне диагноз, я не испытала шока. Потом долго только сомневалась в том, что мне делать дальше, потому что психиатры хотели отправить сына в коррекционную школу, на индивидуальное обучение — хуже придумать нельзя было. А когда я пыталась объяснить, что, в отличие от многих других деток с аутизмом, Елисей очень хорошо социализирован, меня просто слышать не хотели.Но советами врачей я пренебрегла и просто повела ребёнка в школу по месту жительства. И не пожалела. Главное тут — попасть к нужному учителю. Нам повезло: учитель когда-то работала в коррекционной школе и сталкивалась с такими детьми. В первые же дни, когда я увидела, как мой ребёнок вдруг взял и стал ходить по классу, или вдруг начал петь, я решила, что не выдержу, и предложила ей перейти на индивидуальное образование, но, к счастью, учительница сама меня отговорила. И действительно, спустя какое-то время, он потихоньку стал сидеть вместе со всеми. Какое-то время была проблема, что он не выполнял задания, не слушался, мог на уроке математики достать русский язык и переписывать оттуда тексты, но через полгода я увидела, что если они все уже рисовали новогодние шары, то и он их рисовал. Он стал реагировать и делать, что его просят. Я уверена, что, если бы мы пошли в коррекционную школу на индивидуальное обучение, то ничего бы этого не было. Я вижу, что его развитие очень сильно зависит от социума. Если он попадает в атмосферу, где его не отталкивают, то он развивается, у него появляются навыки, которым я его не учу. Елисей очень общительный, он очень любит болтать со всеми. Другое дело, что он болтает только на интересные ему темы, и у него есть свой набор шуток, которые не всем понятны. Например, он очень любит произносить слова с ошибками: для него смешно, когда можно поставить вместо «о» букву «а».
Мне ещё очень помогло то, что я написала учителям письма о моём сыне. Я написала им про диагноз, написала, что у него есть проблемы: «Мой ребёнок может обращаться на „ты“, но не потому, что он вас не уважает, он просто пока не знает градацию, что есть старший, есть младший, мой ребёнок может встать на уроке и это тоже не показывает его неуважение». Несмотря на эти вещи, у него есть свои сильные стороны, и я перечислила, что он умеет, что он знает, например, порядка ста басен Крылова, которые выучил в течение месяца, и прекрасно играет на флейте. В конце письма я написала: «Если будут проблемы, вы не переживайте, что вы плохой учитель, это очень сложно даже родителям. Помогите мне. Если я буду знать, какая проблема у моего ребёнка — я буду знать, как это исправить».
Это было очень важно, потому что Елисей мог, например, залезть под парту посреди урока. Что обычно сделала бы учительница в этом случае? Она же не знает, что произошло, она бы начала его вытаскивать оттуда и было бы ещё хуже. А с помощью письма я их познакомила, и этого удалось избежать. Как-то прихожу к нему, а учительница выходит с улыбкой и говорит мне: «Сегодня половину урока под партой просидел. Не знаю, что он там делал». То есть его всё это время не трогали, в итоге он успокоился и больше под парту не залезал.
Но не всегда было легко — бывало, моего ребёнка задевали. И даже со стороны одного учителя было очень сложное отношение. Дело до истерик доходило, но я терпела, ничего ей не говорила. Зато говорила Елисею. Однажды, когда он ко мне пришёл и, чуть не плача, стал рассказывать, как она с ним обошлась, я сказала ему: «Сынок, она просто очень устала, но мы должны её любить». И в очередной раз я пришла забирать его из школы, он выходит ко мне, а учительница недалеко от нас оказалась. Он мне говорит: «Мама, она просто очень устала, давай мы её всё равно будем любить». Она сама в этот момент чуть не расплакалась и все проблемы потом ушли. И сейчас я понимаю, что лучше, чем сделал мой сын, я бы сделать не смогла. Я бы стала выяснять отношения, говорить, как она может так вести себя с ним, бросаться на него, а он вот таким отношением её покорил. Так он и меня учит с людьми обращаться. Благодаря ему я начала искать у людей помощи, а не возмущаться, и оказалось, что на самом деле вокруг очень много хороших людей. Многие готовы помочь, просто не знают как. Когда мой сын перешёл в среднюю школу в новый класс, я стояла на линейке и немного насторожилась, увидя как два мальчика обсуждают Елисея. Мол, и этот теперь с нами будет учиться? Я подумала, что надо бы переключить их энергию в правильное русло, подошла знакомиться, и говорю: «Дима, у меня большая просьба, если мой сын куда-нибудь не туда пойдёт, ты помоги ему, пожалуйста». Для них это был шок, их попросили, к ним обратились, как к взрослым, попросили быть ответственными. В итоге они действительно стали ему помогать, а класс очень хорошо к нему отнёсся, к нему привыкли — вся школа привыкла.
К врачам мы до семи лет не ходили. И, честно говоря, я рада этому, потому что с психиатрической службой у нас большие проблемы. Не знаю, как сейчас, но тогда в Приморье ничего не было. Только хамское отношение и ощущение унижения, вплоть до того, что мне в поликлинике карту не отдавали, чтобы я могла ребёнка в школу оформить. Мне говорили: «Мы вам не дадим карту, вас в школу с таким диагнозом не возьмут». Как будто это им решать. Смотрели на ребёнка, как на умственно отсталого. Приходим в психиатрическую службу к логопеду. Он достаёт картинки с животными и говорит: «А кто это?». Елисей переворачивает картинки и говорит: «Не будем». Вы понимаете? Врач показывает картинки и спрашивает, есть ли там мишка, когда мой сын уже сказки Пушкина наизусть читает и знает классификацию этих животных. Естественно, он уже не хотел с ней говорить.
А когда его тестировали в нашей психиатрии, его вывели из себя: ребёнок рыдал. Они заявили, что у него всего 30−40% сохранного интеллекта. Я спрашиваю: «Как вы это определили?». Они говорят: «А он нам не показал это, не показал то». По их тестам было так, и совсем по-другому, когда мы поехали в центр в Йошкар-Оле. Там его тестировали два дня, и когда он был не в настроении, его не трогали.
Там мне очень понравился психиатр: она не просто разговаривала с Елисеем как со взрослым человеком, но и показала мне возможности моего ребёнка, изменила моё отношение к нему. Например, я за какое-то время свыклась с тем, что он не вступает в диалог, односложно отвечает, что с ним не поговоришь, и просто ничего ему не рассказывала. А тут прислушалась к ней и изменилась: я приходила с улицы и рассказывала, где была, что делала, какая там погода. После разговоров по телефону я делилась, с кем общалась и о чём. Мне было неважно, отвечает он или нет, смотрит или нет. В течение полугода я проговаривала ему это всё, а потом он вдруг стал отвечать мне. И сейчас он сам всегда спрашивает, где я была, что делала, с кем общалась, о чём. Получается, что мы сами не включаем их в свою жизнь, предполагая что они не общаются с нами. А оказалось, что ему этого не хватало, просто он не знал, как это делается.
Когда я от кого-то слышу, что после такого диагноза от них отвернулись друзья, я говорю: «Значит — это были не друзья, а случайные люди в вашей жизни». Ни один человек не перестал со мной общаться — наоборот, все мои друзья поддерживали меня. И как только меня накрывало, я набирала их номера — первому рассказывала, второму, третьему, и постепенно становилось лучше. Все меня подбадривали, рассказывали какой у меня замечательный ребёнок. А потом ребёнок подрос, и я сама стала видеть, что я действительно живу какой-то удивительной жизнью, которая проходит мимо других. Мой ребёнок восхищается закатом, он постоянно замечает какие-то необыкновенные цветы. Мы порой не обращаем внимание, а я благодаря своему ребёнку до сих пор обращаю внимание на всю красоту вокруг.
Про «Маленький принц» я узнала с самого начала. Мы с Леной (Пинчук) были знакомы задолго до того, как нашим детям поставили такой диагноз, а потом как-то случайно встретились в автобусе и узнали, что у нас общие проблемы. Так мы стали больше общаться, и когда открылся «Маленький принц», мы с сыном стали туда ходить. Елисей сейчас находится где-то посередине. С одной стороны, здоровые детки, с другой, такие сложные дети, как в «Маленьком принце. Поэтому мы ходим туда не заниматься, а просто с удовольствием приезжаем попить чай, поговорить, сходить на какие-то мероприятия, праздники. Я очень рада, что появилось такое место, потому что теперь те, кто впервые сталкиваются с диагнозом «аутизм», могут понять, с чего им начать, есть место, куда они могут прийти и узнать, как им быть, чего не надо бояться, что делать и чего ждать.
Источник:
https://dv.land/people/v-tri-goda-moi-rebenok-zabyl-vse-chto-umel