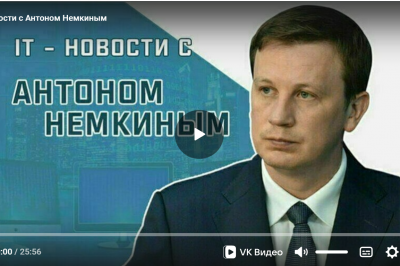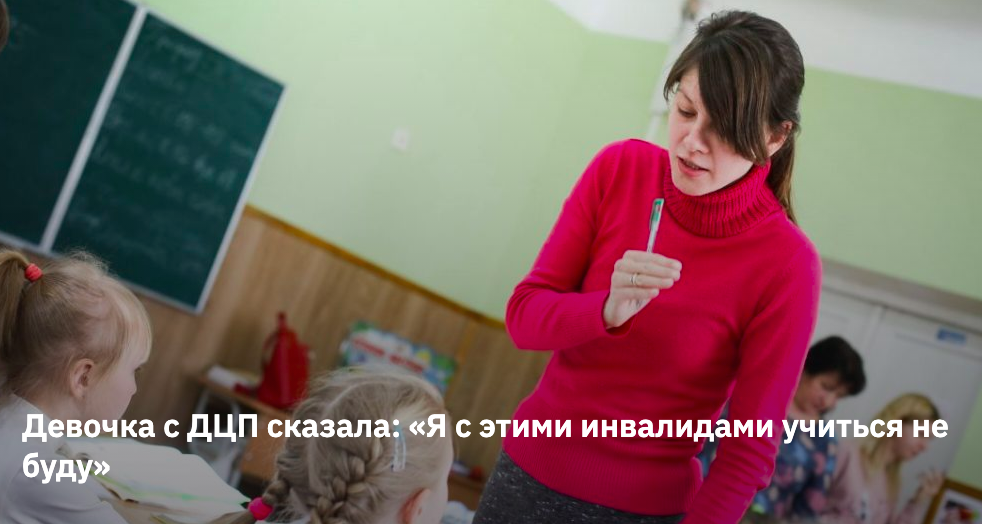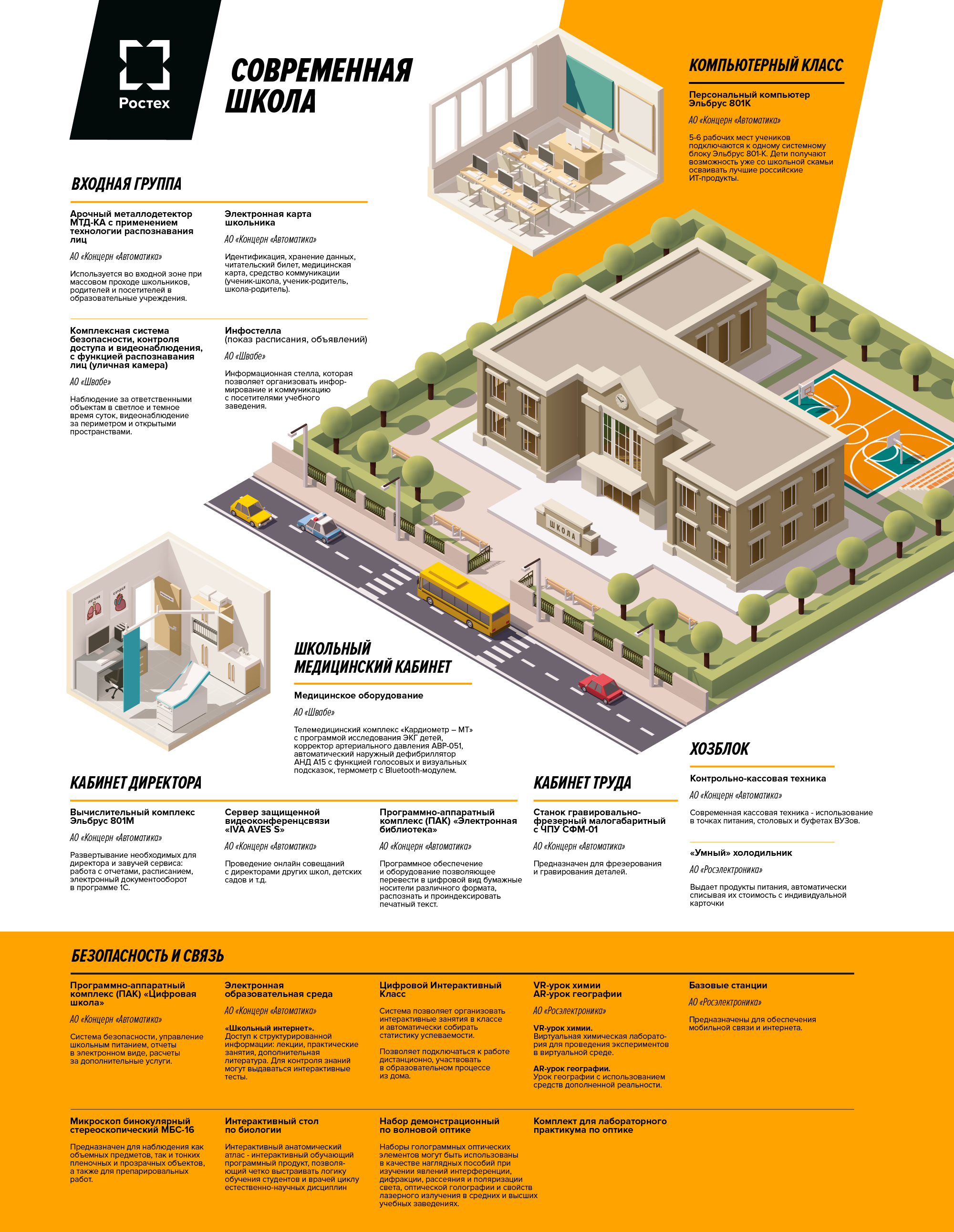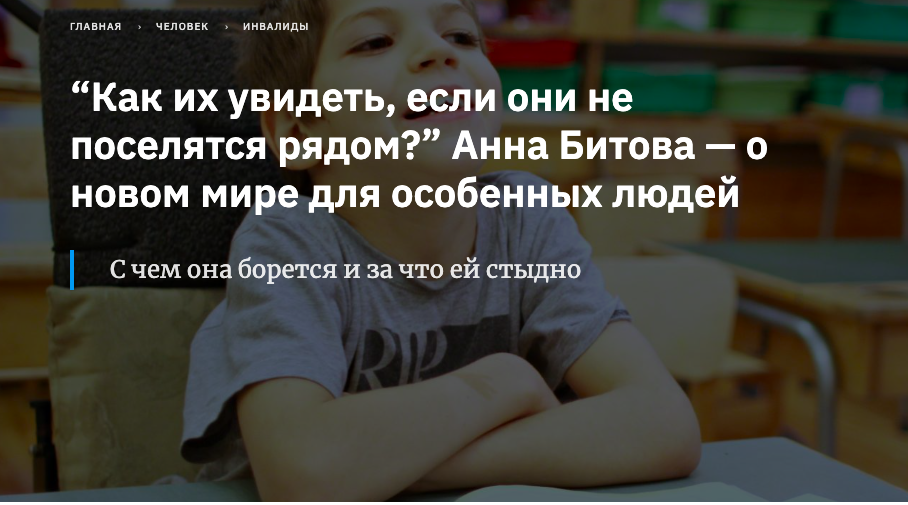
Анна Битова, председатель «Центра лечебной педагогики», член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. рассказывает о том, можно ли сделать общество толерантным, есть ли у родителей выбор, почему с чиновниками стало проще общаться и как нарушаются права людей, живущих в психоневрологических интернатах.
Многие не хотят ездить с ними в лифте
— Кажется, что за последние тридцать лет отношение к людям с инвалидностью изменилось. Но в очередной раз, услышав, например, слово «даун» в качестве ругательства, задумываешься, что это не совсем так. А как считаете вы?
— Всё равно общество пока очень сложно реагирует. Сейчас у нас большие проблемы с квартирами сопровождаемого проживания, которые мы пытаемся организовать в Москве. Такие квартиры – альтернатива ПНИ для совершеннолетних людей с психическими нарушениями, с расстройством аутистического спектра и так далее. Жильцы не хотят, чтобы рядом с ними жили ребята с особенностями, запретили им пользоваться общим лифтом. Причем разговаривать с жильцами очень трудно, они агрессивно настроены и преследуют одну цель – выселить.
Думаю, что понимающих и толерантных людей надо растить с детских лет. Об этом говорят и наши западные коллеги, которые видят реальную пользу того, когда во всех дошкольных группах, школьных группах есть дети с особенностями. Нормотипичные дети привыкают к ним, и, взрослея, не видят в том, что они рядом, никакой проблемы. Появляются паттерны поведения — как себя вести с таким человеком, что делать, если он, например, взволновался?
Мой сын буквально с рождения в наших интегративных лагерях, в инклюзивной группе, потом в инклюзивном детском саду, он хорошо умеет общаться с «особыми» детьми. И вот как-то, в классе пятом или шестом, одноклассник с ограниченными возможностями здоровья взволновался, и потом сын гордо рассказывал, как успокаивал его и как у него получилось. Он не боялся, он знал, что происходит, почему и как с этим справиться.
— Те люди, которые не хотят видеть в качестве соседей особых людей — просто боятся?
— Да, боятся, и быстро изменить отношение не получится, это надо делать постепенно. Но, с другой стороны, непонятно, как они увидят этих людей, если они не поселятся рядом?
Необходимо больше популяризации, чтобы люди с особенностями воспринимались такой же частью общества, как и все остальные. Хотелось бы, чтобы было, как на Западе: российский сериал на центральном канале, где среди героев — человеком с синдромом Дауна, человек с ДЦП, чтобы была линейка одежды от человека с синдромом Дауна. Сейчас же у нас даже антипиар – если преступление совершил человек с особенностями, то СМИ сразу выносят это в заголовок. Никому в голову не приходит сделать заголовок «Нормотипичный человек совершил преступление», хотя это гораздо более частая история.
10% населения имеют инвалидность – каждый 10-й человек.
Ты озираешься вокруг и видишь, что либо у тебя прямой родственник, либо у твоего соседа — инвалид. Никак ты не спрячешься от этой проблемы. Мир разнообразен – люди отличаются по цвету кожи, по интеллекту, по заболеваемости и это надо принимать.
Но все же мы далеко ушли от того, что было тридцать лет назад. Детей с синдромом Дауна стали усыновлять, пусть не массово, но я знаю довольно много случаев. Главное же – родители перестали их отдавать в систему. 25 лет назад была жуткая статистика — в Москве отказывались от своих детей с синдромом Дауна 98% родителей. Восемь лет назад их стало 50%. Сейчас – еще меньше и в системе, по крайней мере, в Москве, почти нет маленьких детей с этим синдромом – их берут в семью.
По всей России стали появляться организации родителей, которые поддерживают друг друга. Например, в Кирове есть ассоциация родителей, они добиваются, чтобы им давали информацию о рождении ребенка с синдромом Дауна, выходят на семью, рассказывают, приглашают к себе, поддерживают. То есть, родители, у которых рождается такой ребенок, не остаются один на один с проблемами, как это было раньше.
— Очень сильно! Раньше они были вечно запуганные, зашуганные люди, которые всего и всех боялись. У нас были родители, которые не выходили днем на улицу, чтобы никто не увидел, что ребенок с проблемами. Родственникам не рассказывали об этом, например, были случаи, что ребенку уже три-четыре года, а бабушки не в курсе, что у малыша есть диагноз.
Мама трехлетней на тот момент девочки с синдромом Дауна как-то сказала мне: «У меня старший сын, которому 17 лет, не знает, что у сестры синдром Дауна». Сейчас родители не прячут их, а наоборот готовы везде выступать, пытаются изменить отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.
— Раньше женщины часто воспитывали особых детей одни. Как сейчас?
— Пап стало явно больше. Помню, 30 лет назад в группа детей с расстройством аутистического спектра, из 30 детей только у двоих были папы. Сейчас такой конструкции нет. Да, есть одинокие — как мамы, так, кстати и папы. Но одиноких много не только среди тех, у кого дети с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас появление такого ребенка все-таки часто не решающий фактор для распада семьи, Мне кажется, наоборот, ребенок с особенностями семью связывает, объединяет. Это дополнительные хлопоты, но, с другой стороны, дополнительная близость.
“Вам нужно, нам нет” — ответил чиновник
— Помните своих первых учеников?
— Много лет я помнила вообще всех, с кем когда-либо занималась. А моя первая ученица – это дочка знакомой. У девочки была задержка развития и ее мама попросила помочь. Я начала заниматься с ней на последнем курсе института и занималась потом еще несколько лет. Сейчас эта ученица — взрослая женщина, у нее все в порядке, замужем, двое детей. Мы с ней до сих пор общаемся.
— Расскажите про создание Центра, как всё начиналось?
— Хотелось сделать что-то для детей, чтобы они могли оставаться жить дома, а не в больнице или в интернате. Мы вместе с родителями стали пробивать открытие такого центра, но ничего не получалось, в какой-то момент мы решили, что тогда сделаем его сами.
Долго было сложно с помещением. До последнего времени мы сидели в маленьком, работать там было тяжело, казалось, никакого просвета нет. Нормальное помещение мы выпрашивали пять лет. А потом вдруг раз — и нам дали такое помещение, невероятное счастье. Просто случилось чудо! Пока мы его обживаем — нет мебели, нет занавесок, ничего нет.
— Когда вы начинали, тяжелее было с бизнесом или чиновниками? А сейчас?
— Тогда было тяжелее с чиновниками, а сейчас — с бизнесом. Чиновники в то время были не мотивированы на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. Я помню, как мы ходили, выпрашивали помещение в районный комитет здравоохранения: «У нас дети с психическими нарушениями, нам нужна помощь, помещение, чтобы заниматься с ними». На что чиновник удивленно спросил: «У нас уже есть психиатрическая больница на территории. Какие проблемы?»
Родители, которые пришли со мной, возмутились: «Мы не хотим, чтобы ребенок находился в психиатрической больнице, мы хотим, чтобы он жил дома и ходил заниматься. И нам нужно помещение для этого». «Может, вам нужно, а нам нет», — очень спокойно ответил чиновник. Сейчас никакой чиновник так не скажет.
А что касается бизнеса – раньше он легче откликался на просьбы помочь. А сейчас нам говорят: «О, у нас уже столько программ, мы помогаем уже трем детским домам. Мы им подарки подарили, крышу починили».
Пытаешься им объяснить, что вместо этого лучше бы с детьми позаниматься, чтобы детей подготовить к выходу из этого детского дома, помочь им в сопровождении, социализации. Что починенная крыша и разовые подарки не помогут выпускникам детских домов, которые не умеют пользоваться деньгами и вести быт, представители бизнеса не понимают.
Чтобы ребенок остался дома
— Знаю историю, как выпускник одного из домов-интернатов для умственно-отсталых детей очень мечтал поговорить с кровной матерью. Ее удалось найти, но она отказалась встречаться. Почему так?
— Сложно, когда уже всё распалось, родитель отвык и живет другой жизнью. Надо пытаться помогать ему на самом первом этапе, чтобы ребенок остался дома. Мы сейчас за это боремся – за систему ранней помощи, чтобы семью сразу «подхватывали», выделяли помощника, чтобы был координатор, помогающий устроить, например, обучение. И эта помощь – не кратковременна, а постоянна.
Если семья остается без помощи, большой риск, что она сдаст государству ребенка с тяжелыми нарушениями развития, с психическими нарушениями — с ними трудно, особенно, когда они взрослеют. Некоторые из них (далеко не все, конечно) не дают родителям спать, есть, не дают спокойно жить – для родителей это тяжелая ноша. Общество должно помогать им, если мы хотим, чтобы семья сохранилась.
Сегодня ранняя помощь семьям с ребенком, у которого ограниченные возможности здоровья – только на усмотрение регионов. Мы рассчитываем, что она войдет в закон и тогда это будет обязательным для регионов. Все семьи, у которых есть ребенок с проблемами развития, должны получать помощь с обучением детей на регулярной основе, близко от дома, чтобы дети не разлучались с родителями.
— Случались ли ситуации, когда родители изменили решение отдать ребенка в детское сиротское учреждение, потому что им была оказана помощь?
— Вот одна из таких историй. К нам обратились из Департамента труда и соцзащиты Москвы, рассказали, что есть семья, которая хочет отдать ребёнка в интернат, и предложили попробовать помочь вместе. Мы встретились с мамой, ребенок оказался, действительно сложным – на тот момент девочке было около четырех, сильные нарушения зрения, двигательные нарушения. Он практически не шла на контакт. Мама воспитывала ее одна, сидела с ней дома до трех лет, потом еще как-то билась, потом поняла, что должна работать — нет денег, жить не на что. Отдать дочку в детский сад не удалось: везде мама получала отказ, и, отчаявшись, она решилась на интернат.
«Давайте, мы попробуем найти вам сад», — предложила я. Вообще-то, по закону, она имеет право на то, чтобы водить ребенка в детский сад. С помощью юриста мы нашли садик, девочка стала туда ходить и осталась в семье.
Другой ребенок, про которого нам тоже рассказал Департамент, — очень тяжелый, паллиативный, на аппарате искусственной вентиляции легких, должен был оказаться в интернате – маме нужно было возвращаться домой, к другим детям. Мы тогда обратились к детскому хоспису, они дали сиделку, поддержку, ребенок какое-то время пробыл в реанимации, а потом его отпустили домой. Сейчас он в семье, дома, невзирая на всю тяжесть его состояния, заботиться о нем помогает сиделка.
Возможность не сдавать ребенка в интернат связана не только с тяжестью состояния, а больше с уровнем поддержки.
С одной историей мы не справились: тяжелая девочка, не ходит, жила дома 14 лет, а потом наступил пубертат, поведение ухудшилось. Квартира маленькая, ночью она не спит, и с ней не спит вся семья, в том числе и другие дети, которым утром в школу. Семья живет на девятом этаже, лифт заканчивается на восьмом, вынести из дома тяжелого неходячего подростка – нереально. Мы предлагали семье варианты: «Давайте мы возьмем ее на пятидневку, или будем утром отвозить на занятия, вечером забирать и привозить домой». Но мама ответила: «Нет, мы больше не можем».
— Вы знаете о судьбе детей, которые занимались в Центре и выросли?
— Да, о многих. За 30 лет у нас получили помощь примерно 25 тысяч детей. Кто-то, окончив школу, вернулся к нам — их не так много, около 100-120 человек. Это люди, которые не могут без поддержки и продолжают приходить к нам на взрослые программы.
Мы учредили фонд «Жизненный путь», который занимается нашими взрослыми. Как раз в рамках фонда созданы тренировочные квартиры, чтобы ребята готовились ко взрослой жизни без родителей. Сейчас будем, надеюсь, делать первую квартиру постоянного проживания – это очень большой проект для Москвы, очень дорогое жилье, всё происходит очень сложно.
Кто-то из наших учеников не работает, кто-то работает в специализированных мастерских, кто-то — на открытом рынке. Один из учеников сейчас тестирует компьютерные программы. Он много у нас занимался, много сил было вложено.
Есть ребята, которые женились и вышли замуж. Занималась одна девочка – у нее было нарушение слуха и некоторые эмоциональные особенности, напоминающие расстройства аутистического спектра, кроме того — двигательные проблемы. Но, занимаясь, она хорошо продвинулась, пошла в массовую школу и там уже нашей поддержкой не пользовалась. Вышла замуж, родился ребенок, и у него были легкие нарушения речи. Она пришла с ним в Центр, а я шутила: «Вот, теперь мы с внуком занимаемся». Сейчас он пошел в школу, никаких проблем у него нет.
Больше контактов — больше выборов
— Как быть, если в группе детского сада особый ребенок обижает других детей?
— Если этот ребенок – нарушитель поведения и он действительно обижает детей, то все-таки надо настаивать, чтобы он лечился или получал психологическую помощь. Детский сад имеет возможность выделить ему ассистента, тьютора, который бы ходил за ним следом и смотрел, чтобы он никого не обижал. Можно сделать ему отдельную программу. Есть много разных возможностей.
— Вы как-то сказали, что любого ребенка с аутизмом можете научить заниматься, чтобы он пошел в школу.
— Школа может быть разная.
— Да, и порой родители стремятся во что бы то ни стало отдать в обычную общеобразовательную. Когда это имеет смысл, когда не имеет, и может быть во вред ребенку?
— Мне кажется, что право родителей делать так, как они считают нужным. Я верю родителям больше, чем нам, специалистам: они обычно больше понимают про своего ребенка. Но чтобы обеспечить необходимое обучение такому ребенку, школа должна прилагать усилия, — создавать для него индивидуальную или частично индивидуальную программу.
Помню, я была на обучении в Норвегии, и нас возили по инклюзивным школам. И, кроме всего прочего, рассказали, что у них есть аутичный мальчик, ученик, кажется, второго класса, который отказывается ходить в школу. Для него существует программа — каждое утро к мальчику приходит сопровождающий, забирает из дома, приходит к школе, доходит с ним до ворот, разворачивается и уходит. А занятия проходят в библиотеке или каком-то другом общественном месте.
На мой вопрос, каков план по развитию этого ребенка дальше, мне ответили: «Мы будем продолжать его пытаться завести в школу». Это нормальная позиция. У человека есть проблема, мы ее решаем. Можно подумать, есть ли другие варианты ее решения, но речь не об этом.
— Как вы относитесь к мнению, что, с одной стороны, продвигается инклюзивное образование и обучение, а с другой, стороны, разрушается налаженная система спецшкол?
— Точно не у нас. Наоборот, у нас их собираются еще больше финансировать. Я знаю страны, где закрыли полностью все специальное образование, и знаю страны, где сохранили. Я была в Англии как раз в переходный момент, когда все думали – закрывать не закрывать. Родительская общественность возражала против закрытия, и в итоге систему специальных учебных учреждений оставили, чтобы у человека был выбор. Я за выбор.
— А не лучше спецшколы, в которых маленькие классы, преподают дефектологи, а не один учитель на 30 человек?
— Я помню, как была в школе для плохо говорящих детей. В ней было 300 детей, и, да, все плохо говорили. Люди там учатся 13 лет, чтобы научиться хорошо говорить, но выходят, не имея этого навыка — в школе нет речевой среды. Все говорят плохо. И даже директор школы говорил очень короткими и простыми фразами – приспособился. Дети учатся и живут там шесть дней в неделю, домой – только на выходной. Я не думаю, что это хорошая история.
Или взять школы для слабослышащих. Да, там их научат все, чему положено учить слабослышащих. А как они дальше будут жить? Сейчас мы видим, что они живут узкими анклавами, им трудно в социуме, у них нет привычки общаться со слышащими.
Любая изоляция имеет свои минусы, даже если она очень доброжелательная.
Думаю, что человек должен жить в открытом социуме, в нем больше шансов, больше возможностей, больше контактов, больше выборов.
Когда взрослый человек – бесправен
— Что вас в нашей сегодняшней жизни выводит из себя?
— То, что происходит в психоневрологических интернатах. Сейчас я трачу почти всё свое время на лоббирование интересов людей в том числе проживающих в интернатах, на изменение законодательства в этой области и на какую-то практическую помощь для них. У меня нет внутреннего согласия с тем, что люди живут в таких условиях — нарушения прав взрослого человека, когда он лишен элементарного выбора: что есть, что надеть, куда пойти.
Большинство из таких учреждений закрыты. Понятно, есть закрытые отделения из-за боязни пациентов. Но даже их нужно открывать, увеличив количество персонала, этот персонал обучив.
Но почему отделения милосердия, где живут люди, которые не могут передвигаться, на магнитном ключе, и к ним никто не может зайти?
Да, обычно есть какое-то небольшое количество людей, которые, как это называется, на свободном режиме, которых выпускают в мир. Но это человек 10 из 500. Дееспособных людей там больше 10, почему им не позволяют выйти?
А еще, я, например, была в интернатах, где в палатах нет дверей. Человек не может закрыть дверь и уединиться, все время на людях. Люди живут в ужасных условиях, по 10, бывает и по 18 человек в комнате, хотя есть санитарные нормы, по которым так не должно быть.
Так нельзя, это очень стыдно, что мы имеем такое в XXI веке.
Мне кажется, что главная задача сейчас, чтобы в стране приняли закон о реформировании интернатных учреждений, и не только их — здесь нужен системный подход. Не все живут в интернатах, но те, кто живет дома, не имеют достаточной помощи и в любой момент могут оказаться в ПНИ.
Сегодня мне рассказывали про одного нашего бывшего ученика. Он жил в семье, родители достаточно молодые, папу разбил инсульт, мама скоропостижно умерла. Буквально на следующий день появились сотрудники соцслужб, и отправили человека в интернат.
С нынешними законами сложно вернуть его обратно — нет прямой родни, которая готова взять. А как найти героев, которые возьмут над ним попечительство, ответственность за судьбу человека? Притом, что за опеку 18+ никаких дополнительных денег не положено.
Мы сейчас как-то пытаемся с семьями искать страховку, чтобы в случае чего ребенок не попал в интернат.
Но все-таки движение в сторону изменений есть. Важно, что руководство решило, что реформа будет.
— Как вас в интернатах встречали?
— Сейчас – охотно, просто потому, что приезжаю сверху, как член Совета при Правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Так что двери открываются сразу. Помню, как до этого нас с уполномоченным по правам ребенка не пускали в один интернат, мы стояли на морозе полтора часа и добивались, чтобы нам позволили войти.
Но все-таки учреждения становятся менее закрытыми, туда, хоть и не так охотно, но пускают волонтеров. Когда мы начинали пять лет назад ездить по интернатам и спрашивали: «Есть ли у вас волонтеры?», чаще говорили: «Нет, никогда никто не приходит, у нас закрытое учреждение». Я удивлялась: «Какое же закрытое? У вас же не тюрьма».
Человек, приходящий с воли, дает лучик надежды
— Сейчас образование для детей с особенностями здоровья стало обязательным даже для отделений милосердия домов-интернатов для умственно-отсталых детей. Это выполняется, или только формально, чтобы отчитаться?
— Мне кажется, это очень зависит от интерната. В каких-то интернатах работают по настоящему, в каких-то — более формально.
У детей со множественными тяжелыми нарушениями есть свой образовательный стандарт. Сегодня часть интернатов уже начинают выполнять предписание, чтобы у ребенка было 20 часов занятий за неделю, причем разнообразных, чтобы он регулярно покидал комнату, в которой он живет, и сам интернат. Мы видим, что некоторые возят таких тяжелых детей в школу – это очень хороший результат. Но это происходит не везде. В основном их учат по остаточному принципу.
Хотя, когда с детьми нормально занимаются, многие дают такую динамику развития! Некоторые начинают учиться по массовой программе.
Несправедливо, незаконно лишать человека права на обучение, права у нас всех одинаковые.
Если мы будем делить людей на группы по интеллекту, то можно делить по росту или по весу, или еще по чему-нибудь, и смотреть – кого стоит учить, а кого не стоит.
— Вот с ними занимаются, а дальше? Есть шанс, что человек после таких учреждений не попадет в психоневрологический интернат?
— Мне кажется, что шанс есть. В стране сейчас работают несколько программ по социализации и возможности жизни людей с умственными нарушениями вне стен ПНИ. Один из ярких примеров — благотворительная организация «Росток», которая подхватывает ребят после окончания детского дома-интерната перед переходом во взрослый. Они их сначала селили в тренировочные квартиры, потом, когда люди социализируются, в свои собственные. Благодаря их помощи пятидесяти подопечным удалось избежать ПНИ.
— У вас есть программа, по которой вы ищете волонтеров для работы в детские дома-интернаты. Разве это не то же самое, что починить крышу детскому дому?
— Категорически нет. Это программа очень важна – мы ищем людей, готовых посвятить один вечер или утро в неделю, или можно в выходные дни, для того чтобы прийти в детский или взрослый дом-интернат и стать другом конкретному ребёнку или взрослому. Человек, приходящий с воли, дает лучик надежды, это совсем другая история.
Это немного похоже на программу наставничества, речь об индивидуальном помощнике, волонтере-друге.
Это история не на один раз, волонтёров обучают, все рассказывают, показывают. И когда он начнет общаться с ребёнком или взрослым из интерната, его не бросят, поддержат.
— У вас трое детей, как вы растили их с такой включенностью в профессию, в дело жизни?
— Старшая родилась, когда я еще училась в институте, младшему – двадцать. Когда родилась первая дочь, я была, пожалуй, занята даже больше чем потом, потому, что и работала, и училась. Но мне казалось, что мы все равно много вместе времени проводили. По крайней мере, от нее укоров я не слышала. Старалась, чтобы все дети были включены в мою жизнь, брала их собой, по возможности.
Но младшие иногда говорят с обидой: «Ты была всегда занята».
Я не уверена, что больше времени проводила бы с ними, если бы работала в каком-нибудь офисе с 8 до 8, только там было бы еще и скучно, не было бы никакой активной жизни вокруг. И вряд ли детям бы понравилось, если бы я просто сидела дома.
Обе дочери у меня психологи. Младший еще пока не определился, но много волонтерит, помогает, сейчас работает в этой же области, но это, мне кажется, временно. Что будет дальше — посмотрим.